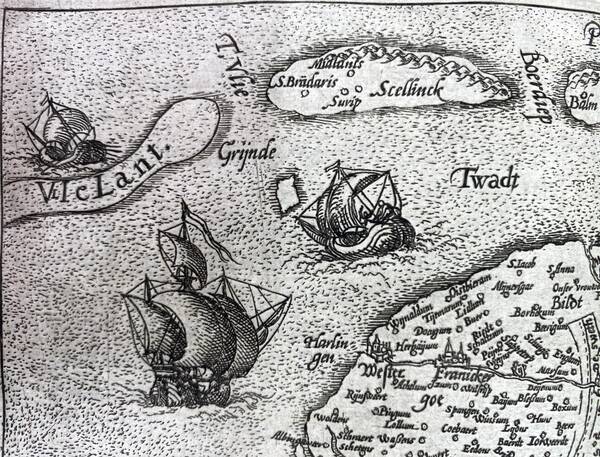Окончание 1 части романа
Монту еще не понимал, что его ждет, а Жорж-Мишель больше всего на свете хотел уйти прочь, но его приговор все еще лежал на столе и не был аннулирован. Когда Амио, наконец, замолчал, измученный ожиданием принц готов был перекреститься.
Его величество был бодр и почти весел, и эта бодрость показалась его кузену неестественной и оскорбительной. Ему хотелось закричать, высказать Генриху все, что он думает об этих двух месяцах ожидания, но он молчал, полностью лишившись сил.
— Жорж, а где та бумага, что я передал тебе с Бретеем? — совершенно не смущаясь, вопросил король. — Она у тебя во дворце?
— Нет, сир, этот документ здесь, со мной…
Сейчас, когда происходило что-то, чего он от усталости не мог понять, Жорж-Мишель поостерегся называть приговор приговором. Боден почтительно передал Генриху папку, король извлек из нее документ, словно это был не смертный приговор, а так — нестоящая внимания бумажка, бегло просмотрел, а потом потряс перед глазами секретаря.
— Сов, ты вот это регистрировал?
Барон развел руками, изображая глубокое раскаяние.
— Простите, сир, но нет, вы ведь не давали такого распоряжения…
«Он сделал это нарочно», — понял Жорж-Мишель. И это открытие тоже поражало до глубины души. Все было не таким, как казалось — события, оценки, а, главное, люди…
— Свечу, — так же небрежно распорядился король.
Жорж-Мишель молча наблюдал, как приговор обращается в пепел, но почему-то облегчения это не принесло. Он слишком устал, и сейчас ему казалось, будто на него навалились все башни Лувра.
А еще очень хотелось пить.
Сорок Пять вывели из кабинета арестованного Монту. От Моисея Генрих избавился небрежным взмахом руки. И принц понадеялся, что теперь-то сможет уйти. Не тут-то было.
Сначала ему принесли стул — у него едва хватило выдержки и сил неторопливо опуститься на него, а не рухнуть в изнеможении. Он вновь был членом королевского совета, словно только что не находился у подножия эшафота.
А потом Генрих наставительно изрек, будто он сам во всем виноват:
— Вот если бы ты не шумел, когда я спрашивал тебя об этом деле, я бы разобрался во всем еще два месяца назад, — объявил он. — Нельзя же быть таким несдержанным, — с укором попенял Генрих. — Но я тебя прощаю!
«Он. Меня. Прощает» — мысленно повторил Жорж-Мишель, силясь разобраться в этом абсурдном заявлении короля. Не смог и решил обдумать все это позже, у себя во дворце.
А потом д’Эпернон напомнил о каком-то эдикте, и принц вспомнил, что сегодня среда, и, значит, это обычное заседания Малого королевского совета, и его дело было всего лишь одним из не самых значительных пунктов заседания. А еще он понял, что за без малого два месяца ожидания смерти основательно отстал от дел.
Голова кружилась, Жоржу-Мишелю одновременно хотелось есть, спать и пить, и он мог только надеяться, что заседание продлится недолго. И когда на предложение д’О рассмотреть дополнение к какому-то закону король отмахнулся, заявив, что это подождет до пятницы, принц Блуа обрадовался, что наконец-то свободен.
И опять ошибся.
Генрих кивнул Амио, словно напоминая о каком-то деле, и тогда на лицо епископа вернулось привычное выражения мягкости и понимания, того понимания, с которым он принимал его исповедь накануне. Но Жорж-Мишель уже не верил в эту мягкость и доброту.
— Сейчас произойдет еще одно важное событие, — умильно произнес епископ. — Его величество в присутствии своего Малого совета желает признать рожденного вне брака сына. Шевалье де Шервилер, — с еще большей мягкостью произнес он, — подойдите к государю. А вы, сын мой, — на этот раз Амио обратился к нему самому, — возьмите корону, которую вы приготовили в подарок крестнику, и встаньте по левую руку от его величества…
Жорж-Мишель понял, что на этом совете ограбили не только Моисея, и все же что-то возражать, спорить и пытаться напомнить, что это его корона — было чревато обвинением в мятеже, а он слишком недавно избавился от смертного приговора, чтобы начинать все сначала.
Под руководством епископа все свершилось красиво и достойно. Луи был бледен, и это было очень трогательно, Генрих взволнован и горд, члены совета один за другим поздравляли юного принца — даже Крийон! — а бывший наставник смотрел на своих уже взрослых учеников с отеческой любовью.
А потом Генрих сказал «Все-все-все, господа, остальное оставим до пятницы, а ты, Жорж, останься!», и принц Блуа понял, что его надеждам как можно скорее добраться до дома не суждено сбыться.
Генрих больше не был мрачен, он был оживлен и воодушевлен, и искренне не понимал мрачности родственника.
— Нечего дуться, Жорж, ты сам наворотил дел, слава Богу, наш добрый Амио во всем разобрался, — возбужденно трещал он. — Но твой подарок Луи очень мил, хотя, конечно, ты беззастенчиво балуешь моего сына, но я тебя прощаю. Но на этом все, Жорж, ты понял? Все! — напустил в голос строгости король. — В подарках тоже надо знать меру! И, кстати, ты мне напомнил, — радостно возвестил он. — Я решил вручить Луи орден святого Михаила, и ты должен помочь мне подобрать драгоценности для орденской цепи — у тебя же такой безупречный вкус! Надо чтобы цепь подходила к короне!
— Сир, — устало проговорил Жорж-Мишель, — если я применю свой вкус, господин д’О не будет разговаривать со мною по меньшей мере два месяца.
— Какие глупости! — отмахнулся король. — Д’О, конечно, скупердяй, но знает, что с королями не спорят. Эй, кто-нибудь! Верните Моисея — он не мог уйти далеко, пусть покажет драгоценности…
И эти слова, а еще больше ревнивый блеск глаз Генриха, подсказали Жоржу-Мишелю, что если бы не его «дар», ни о каких подарках для сына король бы и не вспомнил, как не вспомнил бы о необходимости позаботиться о короне для Алена. Так было всегда. Вся отцовская любовь короля просыпалась исключительно в соперничестве с крестным сына.
Ювелира пришлось ждать не меньше получаса, и за это время Генрих успел отчитать Жоржа-Мишеля за несдержанность, скрытность, себялюбие и черствость.
— Боже мой, Жорж, я так страдал из-за твоего эгоизма… Да я три недели лил слезы. Обнимемся как встарь!
Жорж-Мишель замешкался. Выражать братские чувства в отношении кузена не было ни малейшего желания, но королю, как всегда, не было до этого дела. Генрих шагнул вперед и сжал его в объятиях, даже не заметив, что родственник не обнял его в ответ.
А потом король вновь принялся выговаривать:
— И как ты мог отдать Бретею свою печатку? — сокрушался он. — Кто ты и кто он — подумай! Конечно, он тебе предан, я не отрицаю, ты бы видел, как он валялся у меня в ногах и умолял дать тебе отсрочку, но он тебе не ровня, только слуга…
— Он потомок королей, — не выдержал Жорж-Мишель и отстранился.
— И что?! — удивился Генрих. — Знаешь, сколько потомков разных королей толпится у меня в прихожей — Фарамонда, Гуго Капета, Людовика Шестого... Только все они знают свое место… Ну, что за глупость — сделать душеприказчиком простого вояку?! Душеприказчиком Валуа может быть только Валуа, — изрек король. — Ты должен был обратиться ко мне…
Когда дверь отворилась, и вошел Моисей, Жорж-Мишель готов был произнести благодарственную молитву Всевышнему.
На выбор драгоценностей у Генриха ушел еще час, а потом еще четверть часа он распинался о том, какой должна быть орденская цепь Алена и где именно он впервые должен будет ее надеть. Когда Жорж-Мишель, наконец, получил право покинуть его величество, он чувствовал себя так, словно неделю не вылезал из сражений.
А еще он подумал, что его парадный наряд цвета крамуази хорош, чтобы подниматься на эшафот, да и для того, чтобы лежать в гробу, он подходит идеально, но вот жить в нем было пыткой.
Пересекая королевскую прихожую и не отвечая на почтительные поклоны придворных, принц Блуа размышлял, что надо как можно скорее добраться до дома и написать письма Аньес, Александру и матушке. Вот только шагнув на винтовую лестницу, Жорж-Мишель сообразил, что не все так просто. Пока он даст распоряжение первому попавшемуся пажу или дежурному офицеру подготовить для него носилки или оседлать коня, пока посланец найдет главного конюха, а тот даст распоряжение своим подчиненным, пройдет немало времени. А еще надо будет добраться до дворца Релингенов и написать письма. И когда его гонец, наконец-то, соберется в путь, ворота Парижа будут уже закрыты, и его семья лишних полдня будет мучиться в неведении.
Он не мог тратить время на дорогу — писать письма надо было здесь и сейчас. Вот только Жорж-Мишель не сомневался, что после его ареста кто-нибудь из младших Жуайезов наверняка уже занял его луврские апартаменты. Кто именно он знать не хотел. Ему просто надо было написать письма!
А потом Жорж-Мишель сообразил, что вполне может просить помощи у Алена.
Это было правильное решение. Надо было только понять, где теперь живет крестник — в Тюильри у бабушки или в Лувре у отца.
Первый же попавшийся лакей проводил его к покоям «его светлости герцога Алансонского», и Жорж-Мишель с удивлением понял, что король разместил сына в бывших покоях Франсуа. А еще он с неудовольствием заметил, какое здесь царит запустение. Можно было подумать, что перед отъездом в Нидерланды слуги избранного короля не только вывезли из покоев господина всю мебель, но даже стены и те ободрали.
Впрочем, возможно, так и было. Генрих явно не заботился об апартаментах сына, а, возможно, просто не успел, и, значит, заботиться о крестнике придется ему.
К счастью, хотя бы спальня Алена не пугала разорением и голыми стенами. Ален сидел на кровати, смотрел на доставшуюся ему корону и молча лил слезы.
Жорж-Мишель шагнул к мальчику, Ален поднял голову, а потом буквально слетел с кровати и бросился ему в объятия.
— Я так боялся не успеть! — со слезами на глазах говорил крестник. — Так боялся, что его преосвященство не примет доказательства… Вот, крестный, вот твоя печатка… Я все сделал, как говорил его сиятельство… Вот смотри!
Принц Блуа не сразу понял, что произошло. Посмотрел на собственную печатку, которую Ален сунул ему в руки, на крестника — и ужаснулся.
— Так это был ты… — почти прошептал он. — В одиночку…
— Нужна была тайна, — с жаром сообщил Ален. — Но граф де Бретей мне все-все разъяснил… Каждое слово — все!
Ален вновь метнулся к кровати, достал из-под подушки записную книжку и тоже сунул ее в руки крестному.
Это бесспорно была рука Александра, вот только писал друг совсем не так, как всегда. Словно изо всех сил старался держать себя в руках, не позволяя смятению и боли вырваться наружу.
— Его сиятельство сидел со мной несколько часов… Он каждую строчку просмотрел…
Мальчик рассказывал — взахлеб, давясь слезами, а Жорж-Мишель вдруг почувствовал, что слова Алена звучат как-то отдаленно, становятся глуше и тише, а потом вдруг обнаружил, что сидит на постели крестника, а Ален со слезами в голосе кричит:
— Крестный, крестный, пожалуйста, очнись!
Принц Блуа провел рукой по лицу, попытался встать, но его вновь повело, и он предпочел не менять положение раньше времени.
— Ничего, Ален, ничего… — успокаивающе проговорил он. — Просто мой камердинер перестарался со шнуровкой, — о том, что он не ел со вчерашнего утра, а не пил с нынешнего, Жорж-Мишель говорить уже не стал. — Позови кого-нибудь из слуг, надо ослабить шнуровку.
— Я сам!
Свободный вздох слегка прояснил голову, и Жорж-Мишель отрешенно подумал, что общение крестника с фрейлинами мадам Екатерины оказалось более тесным, чем он предполагал. Мальчик повзрослел, и все же он по-прежнему оставался ребенком.
Проклятье! Как он смог вести следствие?! И как Александр мог поручить это дело ему?! А, с другой стороны, больше довериться было некому.
Жорж-Мишель в очередной раз понял, что друг стал истинным правителем, который может точно оценить ситуацию, бестрепетно принять решение, а потом отправить в неравный бой людей, сколько бы сердце не обливалось кровью. И вновь он ужаснулся, размышляя, что за эти три недели пришлось пережить другу и крестнику, и догадался, что им пришлось тяжелее, чем ему в ожидании смерти.
— Ты рисковал, мой мальчик, — только и сказал он. И сразу же услышал ответ, но не от крестника. С удивлением обнаружил, что в спальне находится еще один человек — господин де Бризамбур, воспитатель Алена.
— Ваше высочество, — почтительно проговорил тот. — Конечно, его светлость герцог Алансонский вел следствие в одиночестве, но я, как воспитатель, сопровождал его в поездке…
— Он навязался! — пожаловался юный герцог.
— Ален, — с мягким укором остановил юношу Жорж-Мишель.
— Простите, ваше высочество, — невозмутимо проговорил Бризамбур. — Но граф де Бретей хотел, чтобы я охранял его светлость. И еще — вам надо подкрепиться, — добавил он, а Жорж-Мишель с изумлением увидел, как на кровать был водружен поднос с печеньем, вареньем и кувшином вина. — Кларет разбавлен, — пояснил Бризамбур и поклонился. — У вашего высочества есть еще распоряжения?
— Бумагу, перо и чернила, — приказал его высочество, решив более ничему не удивляться.
Поднос он опустошил быстро и почувствовал, что голова вновь стала ясной. А потом увидел, как Бризамбур лично запалил над конторкой свечи.
Уже без усилий Жорж-Мишель поднялся и взялся за перо: надо было написать Аньес, Александру, матушке и Филиппу. Вот только он сомневался, что у крестника найдется столько гонцов. Значит, все письма надо было посылать Аньес одним пакетом, а уж она сможет оправить послания адресатам. Еще подумал и запечатал письма жене и другу сразу двумя печатями — они поймут, а потом прямо на пакете Александру размашисто написал «Я жив!» Это было правильно, это было разумно и избавляло друга от мучительного ожидания. А еще надо было объяснить гонцу, где найти принцессу Блуасскую…
Проклятье! — вспомнил Жорж-Мишель. — Теперь в Европе сразу две принцессы Блуасские…
— Не волнуйтесь, ваше высочество, — вновь вмешался Бризамбур. — Я сам отвезу ваш пакет в Турень. Меня представляли ее высочеству вдовствующей инфанте, а за время поездки с его светлостью я запомнил дороги…
Принц Блуа испытывающе посмотрел на дворянина крестника. Что он знал об этом человеке? С Бризамбуром он говорил третий раз в жизни. Первый раз десять лет назад, и тогда это был обычный царедворец, старавшийся угодить всем, потом пять лет назад… Сейчас он видел какого-то незнакомого Бризамбура, и этому Бризамбур, кажется, можно было доверять. Александр доверился и оказался прав. Александр умел разбираться в людях.
— Ее высочества не будет в Лоше, — сказал он, вручая шевалье пакет. — Она будет в Азе-ле-Ридо или, скорее, в замке Саше.
Бризамбур склонил голову, показывая, что все понял.
— И еще, шевалье, — добавил Жорж-Мишель. — Загоните хоть десяток лошадей, но доставьте этот пакет моей жене, как можно скорее.
— Сейчас новолуние, — напомнил Бризамбур. — Ночью скакать будет невозможно.
— Понимаю, — согласился Жорж-Мишель. — Но тогда как только рассветет…
Дворянин поклонился и стремительно вышел из комнаты, а Жорж-Мишель вновь повернулся к крестнику.
— Крестный, — вздохнул Ален и по-детски прижался к его плечу. — Я тебя ограбил, да? Ведь это твоя корона…
— Твоя, Ален, твоя, — успокоил принц. — Надо будет только заменить вот эти камни, — и он указал на морионы. — К чему напоминать о печальных событиях.
— Это же твои цвета, — всхлипнул юный бастард.
— Ничего, — проговорил Жорж-Мишель, — заменим камни и будут твои…
И тогда Ален де Шервилер, герцог Алансонский, единственный сын и бастард короля разрыдался. Прижимая к себе плачущего навзрыд крестника, принц Блуа размышлял, как всё изменилось.
Два года назад он объяснялся с другом, и они оба отказались от милости и чести служить королю Испании, он принимал друга в Лоше, и они с умилением смотрели на попытки сыновей Жоржа выглядеть старше. И, вот — и мальчики выросли.
Филипп, которому предстояло учиться править на собственных ошибках, и дай Бог и прости меня, Всевышний, чтобы за эти ошибки своими жизнями платили другие, а не его сыновья. Он ничего не мог поделать с этим и мог лишь досадовать, что научная мысль еще не породила изобретений, способных немедленно и надежно связать двух человек, находящихся за сотни лье друг от друга. Юный дю Бушаж, нашедший себя в служении правому делу, и его избалованный брат Клод, пугающий даже его своим отношением к человеческой боли и страданиям. А еще был вот этот мальчик, рыдавший у него на плече и даже неспособный пока понять в какую страшную и опасную игру он ввязался.
Принц Блуа старался не показать своего смятения этому храброму мальчику. Он прижимал к себе рыдавшего ребёнка и понимал только одно — пока он просто кузен короля Генриха, пусть его положению и завидуют тысячи людей, он, как и самый простой из дворян, не может защитить всех троих — Филиппа, Алена и Александра.
Прощённый без вины принц сжал вернувшийся к нему перстень так, что грани печати впились в ладонь. Неприятно ощущение привело его в чувство. Он вновь начал чувствовать. Он вернул эту способность, задавленную им в ожидании эшафота, вернул себе то, что сам себе и запретил — бояться, страдать, любить и ненавидеть.
Неуместная мысль о том, что Алену надо сделать туалетную комнату на манер тех, что он приказал обустроить в Лоше и в своем парижском отеле, подсмотрев это в Италии, чтобы юный принц мог привести себя в порядок, не прибегая к услугам лакеев и камердинеров… Глупая мысль. Впрочем, почему глупая? Обыкновенная…
Принц неожиданно подумал, какое это счастье рассуждать о делах самых обыкновенных и простых, а не размышлять о деяниях, достойных памятнику самому себе. Как любой добрый христианин, он не думал об отмеренном ему времени, полагаясь в этом на волю Всевышнего. Но нынче, по крайней мере, он был уверен, что его жизнь не прервется назавтра под мечом палача. А значит, нужно было по-прежнему думать, принимать решения и действовать, чтобы претворить эти думы и решения в жизнь.
Ален перестал рыдать и просто замер в его объятьях, будто обычный мальчишка, отдаваясь теплу и надежности отцовских рук.
Что ж. Ради этого мальчика, ради тех, кто ему дорог, он станет настоящим Валуа. Из тех, кого так привыкли видеть добрые парижане и жители других провинций Франции. Стать чем-то привычным для любящего кузена Генриха. Чем-то давно знакомым и известным по братцу Карлу или братцу Франсуа. Иногда не слишком приятным, но, тем не менее, именно привычным, предсказуемым, а, значит, безопасным.
А еще надо научиться ждать. Ждать известий о коронации Франсуа. Ждать известий о смерти Франсуа. Ждать решения Генеральных Штатов Нидерландов и как-то объясниться с Нассау из-за Филиппа и представить ему Армана. А еще им с Аньес обязательно нужен ещё один ребенок, а лучше два — Генеральные Штаты захотят и таких гарантий. И как бы он не тревожился по этому поводу — не только как муж и отец, но уже и как опытный врач — в этом деле ему придется довериться природе и ждать.
Когда же он дождется того, что его голову увенчает королевский венец, вот тогда уже никто не сможет причинить вред тем, кто ему дорог.
А теперь надо было дождаться, пока Ален окончательно успокоится, предупредить его молчать об участии в деле Монту и сдержано изображать братскую любовь к кузену Генриху… И, наконец, вернуться домой, чтобы избавиться от неудобного одеяния и просто лечь...
Первое, что он увидел по возвращению во дворец Релингенов, была почтовая повозка императорской почты и весьма недовольный шестичасовым ожиданием почтовый курьер, непременно жаждущий получить подпись и печать принца на документе от венецианского торгового дома «по поводу получения ценной посылки». Увидев объявленную стоимость послания, его высочество подумал, что господин д’О, взглянув на эту запись, рисковал лишиться дара речи на несколько дней.
Посылка была адресована «Ее высочеству вдовствующей инфанте «мадонне Агнессе». Что ж, Аньес была независимой государыней. Аньес имела собственные владения. Аньес имела право на дорогие вещи. Аньес имела право заказывать себе любые украшения и безделушки, пусть даже и в цену отеля в Париже. И всё же увиденное им в Нидерландах и рассказ друга заставили его проявить осторожность.
Он велел разжечь камин в кабинете, выгнал всех, включая слуг, и, уже не церемонясь, взломал печать и открыл шкатулку. Разве супруг и господин не имеет право вскрыть послание, адресованное жене, пусть даже и вдовствующей инфанте?
В резном ящичке розового дерева не было ни контагий, ни ядов, ни посланий. Испанцы просто вернули его Руно.
Конец 1 части романа
Продолжение следует...
Скажите, стоит ли продолжать. По моему, роман не встретил особого интереса
Отредактировано Юлия Белова (02-04-2025 14:03:38)


 Здесь вы можете обсудить фантастическую и историческую литературу.
Здесь вы можете обсудить фантастическую и историческую литературу.