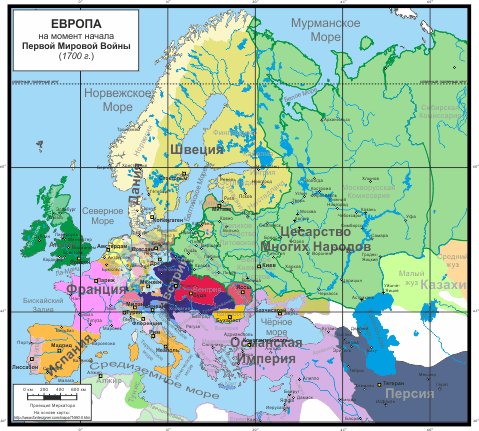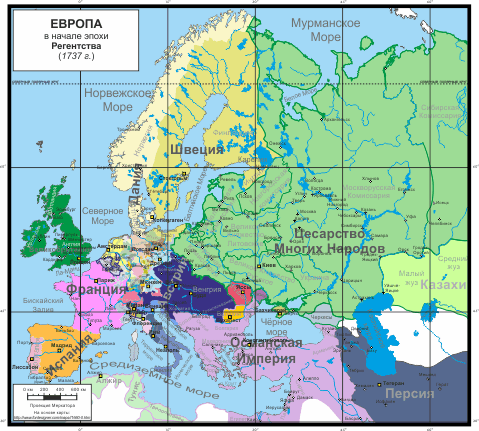Дела семейные и не только (продолжение)
Известие о падении Крыма стало для Европы неожиданностью. Разумеется, при европейских дворах располагали информацией о соотношении сил между Крымом и Цесарством. Само собой, там отдавали себе отчёт, что цесарь сильнее хана. Естественно, там были люди, хорошо представляющие намерение цесаря "окончательно решить крымский вопрос". Но тем не менее, большинство считало, что всё останется, как было – такова сила привычки. Самым сильным ударом это стало, понятно, для Порты, которая внезапно потеряла своего самого верного и, как казалось, вечного и непотопляемого вассала, а вместе с ним – и всё своё влияние в Северном Причерноморье. Это был шок, землетрясение, ураган, обвал. Махмуд I серьёзно опасался за свой трон, боясь восстания, подобного восстанию Патрона-Халила несколько лет тому назад, свергнувшего его дядю Ахмеда III. К счастью, теперь на его стороне был важный союзник.
В Османской империи были традиционно сильны как экономические, так и политические позиции Франции. Французам принадлежали богатые торговые фактории в Леванте (Восточном Средиземноморье). В портах Бейрута или Измира французская речь звучала чаще, чем турецкая. Турецко-французские торговые обороты превышали обороты всех прочих европейских держав, вместе взятых. Франция традиционно поддерживала султанов на Балканах, находя их власть там более выгодной для себя, чем власть иной державы, особенно ненавистной Австрии.
Союз с Турцией был одним из краеугольных камней французской политики, так же, как и союз с Цесарством. Поэтому французы делали всё от себя зависящее, чтобы урегулировать противоречия между двумя своими главными союзниками. Французские дипломаты сориентировались в принципиальном изменении расклада сил на востоке гораздо быстрее, чем все прочие и начали действовать в интересах своего короля ещё до того, как из Версаля пришли какие бы то ни было новые инструкции. Французские послы: де Вильнёв в Константинополе и де Шетарди в Киеве, фактически, по собственной инициативе выступили посредниками между Цесарством Многих Народов и Высокой Портой. Уже в марте 1736 г. была достигнута договорённость о перемирии. Между Цесарством и Портой начались переговоры о заключении мира.
Вместе с тем, очнулась от первого шока Австрия. Изначально император Карл VI и его гофкригсрат (во главе с принцем Евгением) рассчитывали на затяжную польско-турецкую войну, во время которой они собирались, помогая слабейшему, вынудить его пойти на политические уступки в пользу Австрии. Падение Крыма меняло положение дел коренным образом. Турция оказалась слишком слабой, чтобы действовать с ней в союзе. Наоборот, следовало выступить против неё – и как можно скорее, не ожидая, пока цесарь и султан договорятся о мире "на развалинах Бахчисарая". Совет немедленно выступить против Османской Империи, стал последним советом, который дал императору его верный генералиссимус. 21 апреля 1736 г. принц Евгений Савойский скончался.
Его преемник, фельдмаршал граф Бурхард Кристоф фон Мюнних (в некоторых транскрипциях – фон Миних), был полностью согласен с мнением своего бывшего шефа. Его вполне можно было бы назвать учеником покойного принца. В своё время он (будучи ещё капитаном) сражался под его началом при Мальплаке и в других сражениях Западной войны. Когда он служил в армии герцога Саксонского (уже в качестве генерала), участвовал в ряде важных переговоров между своим господином и принцем. После того, как он был вынужден покинуть Саксонию (из-за скандала, вызванном его дуэлью с одним из саксонских офицеров, закончившейся смертью последнего), генерал фон Мюнних поступил в австрийскую службу, где был приближен принцем Евгением, оценившим организационные, военные и инженерные (под его руководством в Венгрии был сооружён и перестроен ряд важных крепостей) таланты своего генерала. Он же склонил императора к возведению фон Мюнниха в графское достоинство. И вот теперь в австрийской армии пришло время смены поколений.
Граф фон Мюнних решил использовать в своих целях успех Цесарства в Валахии. Согласно его плану австрийская армия должна была атаковать турецкие войска в Валахии, деморализованные прошлогодним поражением. Одновременно осуществлялось наступление с линии Дуная на юг, к Белграду и, в случае успеха, далее вглубь Сербии. В Киев к цесарю Якубу был направлен специальный посол для переговоров о совместном продолжении военных действий. Оба австрийских наступления были успешными – фельдмаршал фон Секендорф (тот самый, что в своё время бился с Цесарством под Люблином и Ченстоховой) практически без боя занял Олтению (Западную Валахию), а главные силы во главе с самим фон Мюннихом – Срем. Австрийцы заняли селение Земун на стрелке Савы и Дуная и теперь могли невооружённым взглядом осматривать прекрасно видимую с противоположного берега Белградскую крепость.
Но дальше дела императора уже не были так успешны. Французская дипломатия добилась успеха, склонив Цесарство к прекращению войны с османами. Предложение Карла VI об антитурецком союзе были отвергнуты. Наоборот, в июле 1736 г. Цесарство и Порта подписали между собой мирный договор. Согласно его условиям границей между Цесарством Многих Народов и Блистательной Портой становилась река Днестр. Селение Хаджибей (в устье Днестра), где этот договор был подписан, становилось, таким образом, самым восточным турецким форпостом на северном берегу Чёрного моря. Главным успехом Цесарства стало признание султаном суверенитета цесаря над Крымом. В знак своей "доброй воли" цесарь передавал Восточную Валахию назад султану.
Триумф цесаря Якуба был двойным: политическим и личным. Первый принесли ему успехи его оружия – теперь он имел полное право на присвоенное ему авторами многочисленных "Од на покорение Крыма" наименование "Победоносный". Второй принесла ему его молодая супруга – теперь он мог с чистой совестью называться "отцом наследника трона". Ходит легенда, что однажды, будучи беременной, цесарева увидела во сне своего отца с младенцем на руках. Наутро она спросила свою старую служанку, что может означать этот сон. Старушка ответила ей, подумав: "Бог послал тебе этот сон, барышня, чтобы ты знала: ты должна назвать своего сына именем своего отца. Если ты сделаешь так – твой сын выживет, если нет – умрёт в младенчестве".
Александра рассказала об этом своему супругу, и тот, хоть всю жизнь хотел, чтобы его сыном стал новый Ян Собесский, уступил "воле неба". Рождённый 12 октября 1736 г. цесаревич получил имя Александр – "младенец Олек". Его мать успела увидеть и поцеловать своего сына. А на следующий день триумф цесаря обратился в трагедию – "цесарева Оля", последняя любовь его жизни, выполнив своё предназначение, скончалась.
Отредактировано Московский гость (02-11-2010 18:51:07)


 Здесь вы можете обсудить фантастическую и историческую литературу.
Здесь вы можете обсудить фантастическую и историческую литературу.